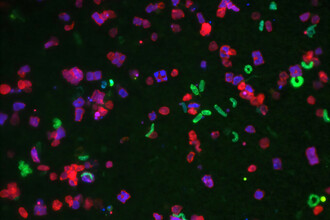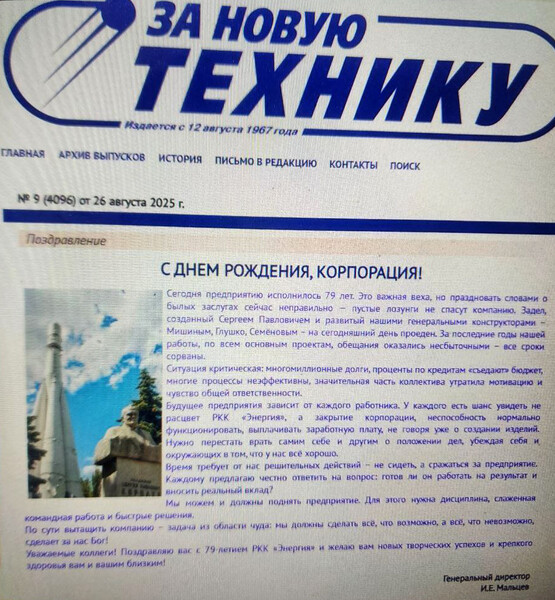Большой театр под художественным руководством Александра Ведерникова демонстрирует творческую зрелость и уверенность в себе. Организация начинает работать так, словно это блестящий европейский оперный театр. Он решил большую часть творческих и тем более организационных проблем и теперь имеет время, возможности и деньги заниматься решением дополнительных сложнейших творческих задач, таких как постановка аутентичной оперы с использованием старинных инструментов.
Тут целый букет историй редкой красоты и занимательности. Большой театр, которому прочат катастрофу последние несколько лет, а скандальные смены руководства происходят с неприличной частотой, похоже, стабилизировался: четыре довольно громкие премьеры в сезон вполне на это указывают. Можно сомневаться в качествах оркестра, который не относится к числу лучших в Европе, можно долго искать с диогеновским фонарем хорошие голоса на сцене театра, это, однако, второстепенно.
Теперь же театр предпринял достаточно амбициозный проект.
Сначала речь шла просто о возобновлении в репертуаре оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» — пафосной, патриотической, громкой и самой подходящей для Главной Сцены России. Планировалась совершенно традиционная постановка: с золотом, кафтанами, боярами и прочими развлечениями русской оперы. Но тут довольно неожиданно Александр Ведерников решил, что ему неинтересно работать с имеющимися партитурами оперы, поскольку они испорчены позднейшими переработками и «улучшениями». Он решил найти оригиналы рукописей, авторизированные (то есть проверенные и отредактированные автором) копии и поставить, записать и издать «настоящего» Глинку. В дело пустили лучших музыковедов-архивистов, которые работали в Питере, Москве и Берлине, в архивах Большого театра и Консерватории, в Пушкинском доме, Театральной библиотеке и в Публичной библиотеке и в берлинском архиве.
Стоит ли говорить, что результаты целенаправленного поиска были ошеломляющие.
Если раньше в распоряжении специалистов было два «оригинала», причем оба неполные и состоящие главным образом из набросков, то теперь их девять. Полную авторизированную партитуру рукописи нашли у себя под боком – в архиве Большого театра, огромный пыльный томище, еще один – в Консерватории, да еще парочку в Питере, а кроме того, непосредственно автографов гениального композитора нашли несколько листов (Глинка страдал от тяжелейшего артрита и в основном диктовал переписчикам, так что каждая страница, исписанная его почерком, представляет собой огромную ценность).
И самая главная находка – в берлинском архиве нашли авторский оригинал оперы, написанный секретарем композитора и собственноручно им исправленный. До сих пор считалось, что этот оригинал погиб во время пожара в Петербургском императорском театре-цирке. Особенно на этом настаивала сестра композитора Людмила Шестакова, распоряжавшаяся архивом после его смерти. В шестидесятых годах XIX века даже был судебный процесс – издатель, которому были проданы права на публикацию рукописей Глинки, подозревал, что его обманули, не предоставив рукопись этой оперы. А рукопись тем временем давным-давно была продана в Германию.
Это не очень красивое поведение родоначальника русской оперной школы, а также его близких родственников совершенно не затмило радости нынешних исследователей, а также их заказчиков из Большого театра.
Опера будет поставлена в оригинальном варианте, на основе партитуры из Большого театра. Берлинская партитура, практически ничем не отличающаяся, чуть более подробная, но пока еще недоступная постановщикам, будет издана и станет, видимо, настоящим эталоном для всех будущих постановок.
Аутентифицированную оперу сделают аутентичной, добавив в оркестр старинных инструментов. Дело в том, что Глинка, очень любивший медные духовые и использовавший их направо и налево, имел дело с барочными трубами и волторнами, без всяких клапанов, работавшими в натуральном строе. Как раз в его время изобрели современные помповые трубы, чем композитор был ужасно недоволен, страшно ругался и требовал, чтобы его музыку играли только старинными, чистыми инструментами, пусть и звучащими в устаревшем еще в баховские времена строе.
Ведерников, неожиданно увлекшийся аутентизмом, заказал специально для новой постановки копии старинных волторн, барочных труб и тромбонов и принялся мучить своих оркестрантов незнакомой им техникой. Если все получится, то трубы в спектакле будут – просто заслушаешься, счастье, радость и аутентизм. Постановка будет, напротив, строгой и авангардной, без пыли и сусального золота.
Все остальное пока секрет – неизвестно, ни кто будет петь непростые вокальные партии, ни как будет оформлена сцена. Пока рассказали только, что опера будет идти совсем без сокращений, три с половиной часа чистой музыки плюс два антракта (слава богу, что не четыре, как предполагалось в оригинале), сюжет никак обыгрывать не будут, и, хотя это и не будет оперой в концертном исполнении, никакой водевильной зрелищности самый серьезный оперный театр страны не планирует.
В целом эта изрядно разрекламированная история замечательно иллюстрирует творческий поиск и широту интересов руководства Большого театра. Есть, правда, одно но: если бы в Большом театре все остальное было в порядке, если бы оркестр был безукоризнен до скуки, что надо было бы развлечь его экспериментами, если бы большинство певцов не были по меньшей мере посредственными, а обычные постановки – тяжким испытание для публики, история с аутентичным Глинкой была бы просто превосходной.
А так вряд ли стоит так уж мучить оркестрантов – немолодые и очень низкооплачиваемые, они едва ли расположены к экспериментам. Тем более что на фоне обычной их игры незначительные изменения в звучании оркестра, небольшая «грязь», которая может возникнуть от одновременного использования натурального и хроматического строя, все равно не будет заметна.

 Цивилизация
Цивилизация