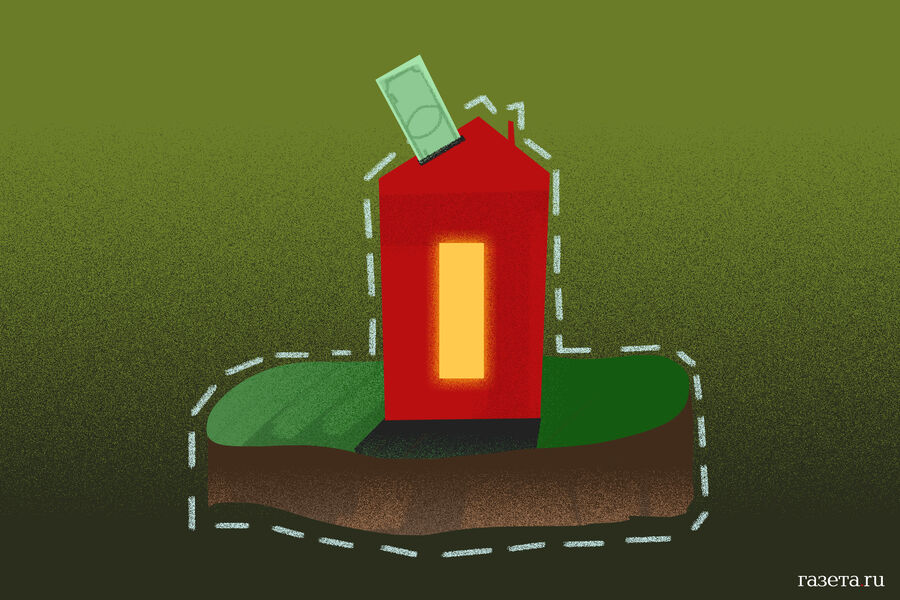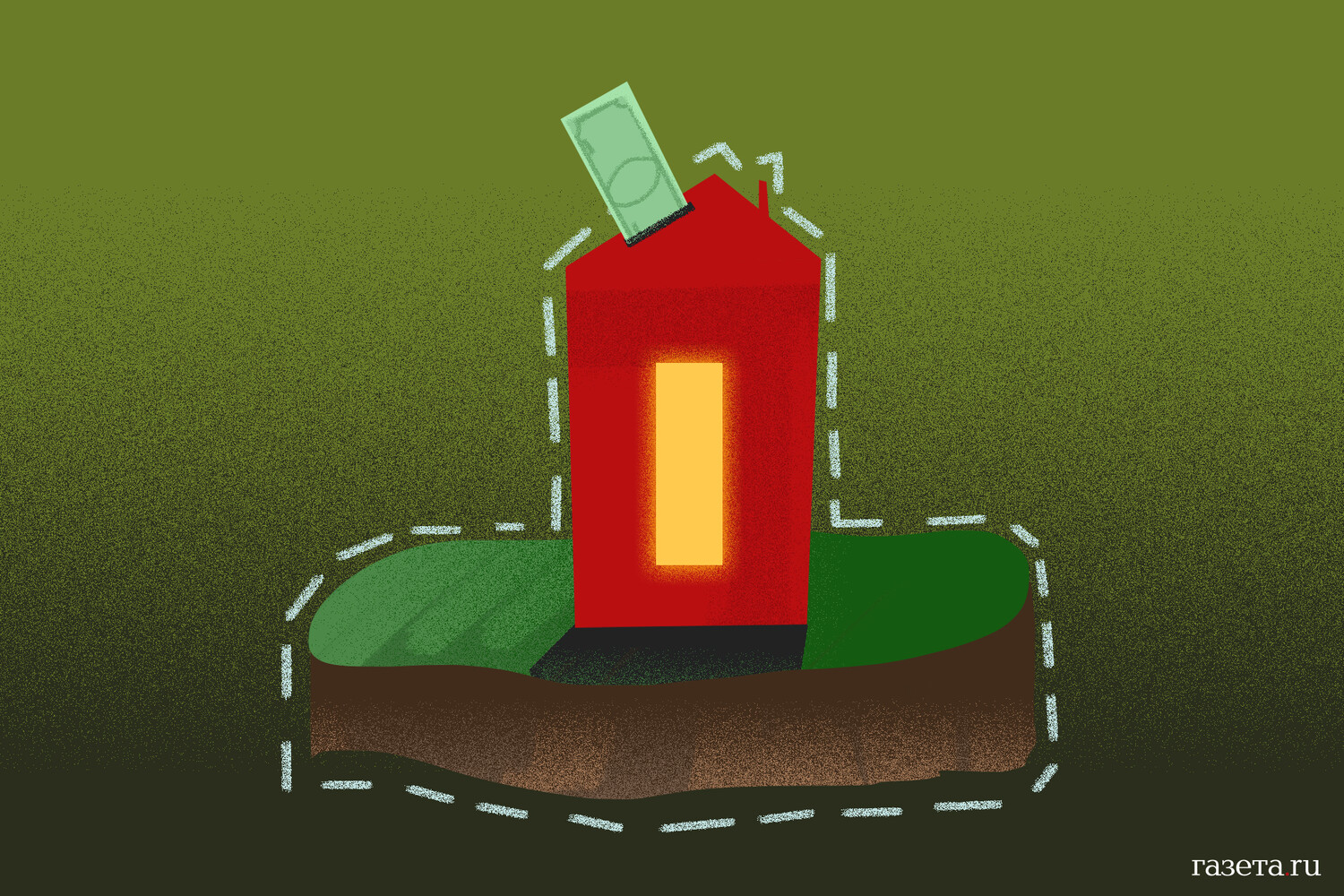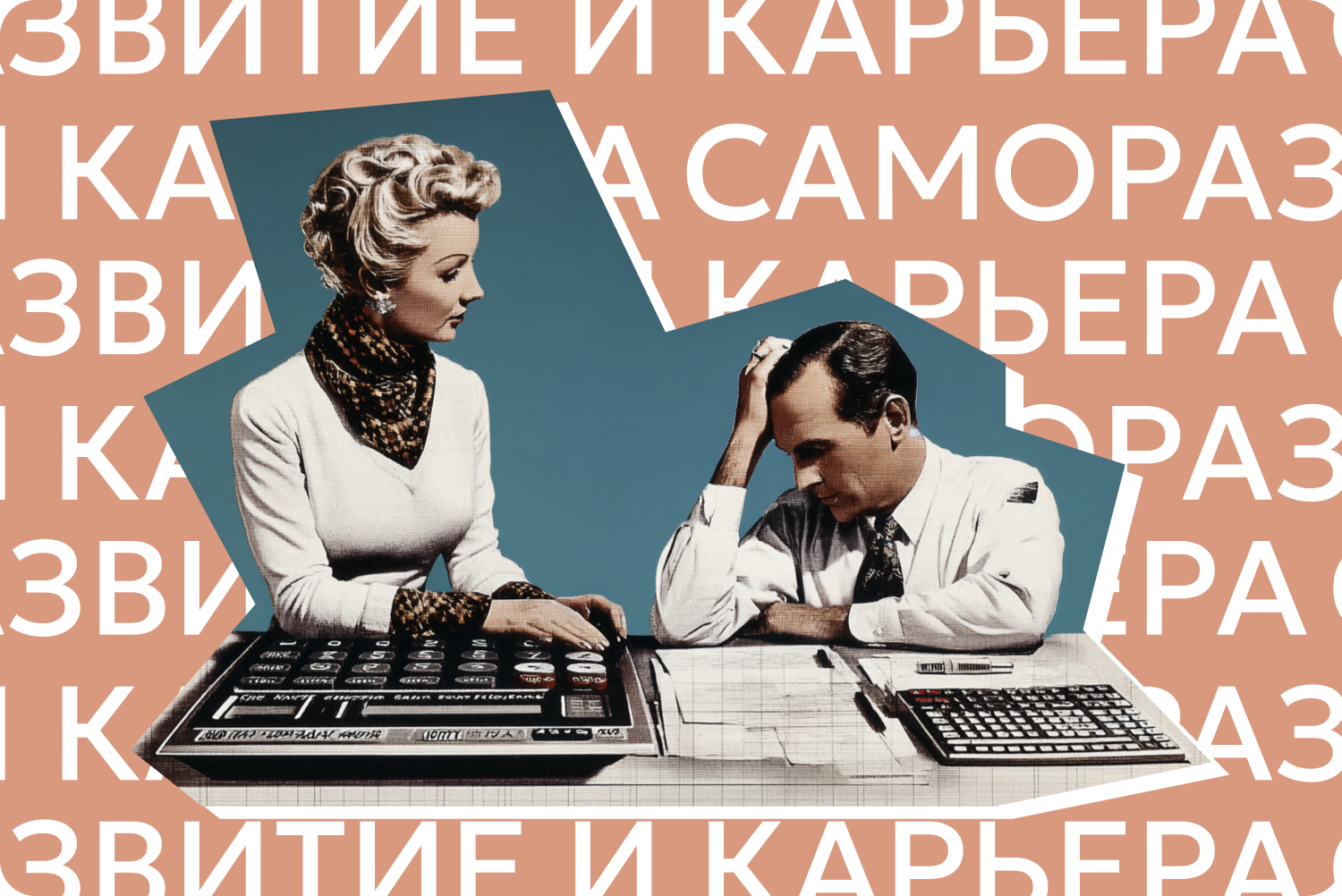В народе ипотеку давно сравнивают с крепостным правом. Городской фольклор бесконечно пополняется шутками о продаже почек ради первоначального взноса, пахоте на трех работах и передаче долгов по наследству. Наши люди вообще склонны на ровном месте нагнетать ужасу и тут же высмеивать собственные страхи. Но, кажется, появились реальные основания для сравнения получателей жилищных кредитов с новыми крепостными. В стране хотят запретить выдавать семейную ипотеку не по месту регистрации. То есть граждан реально хотят привязать к земле.
С предложением таким выступили в Совфеде. Очень уж там тревожатся из-за статистики, по которой более половины выданной семейной ипотеки пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. При этом 40% заемщиков на момент покупки не проживали в этих четырех регионах. Но почему это вдруг стало проблемой? Потому что Москва и Петербург не резиновые? Потому что своим не хватит? Потому что приток иногородних покупателей еще больше взвинчивает цены в главных мегаполисах страны? Некрасиво как-то.
Но нет, Совфед печется о регионах. Ведь их надо развивать. Прекрасная мысль! Конечно, надо. Очень даже необходимо что-то хорошее делать для провинции. Но разве процветание малых городов обеспечивается принудительным удержанием их жителей? Разве если людям ограничить возможность переезда, в провинции появятся хорошая работа, социальная инфраструктура и новое качественное жилье, которое все кинутся покупать? Кажется, все ведь ровно наоборот происходит. Сначала развитие, а потом уж обыватель голосует рублем.
Кто-нибудь скажет, что ограничения оправданы, потому что речь идет о семейной ипотеке, то есть о программе, субсидируемой государством. Раз оно платит, оно и решает. Кто девушку ужинает, короче. Но это ведь так себе логика. Ограничения должны быть понятными, соответствующими концепции. Вот правило, по которому семейной ипотекой можно воспользоваться только раз, — понятная история. Даже странно, что его ввели только в 2023 году, а до того выдавали по пять кредитов в одни руки, работая не на демографию, а на спекулянтов. Понятным мог бы быть даже запрет на выдачу семейной ипотеки парам, не регистрирующим брак, но выступающим в качестве созаемщиков. У нас же борются за традиционные семейные ценности. Но, как это ни парадоксально, в этом плане программы у нас очень даже либеральные.
Зато по семейной ипотеке куча ограничений, которые вообще не про семью. Например, имеет значение возраст ребенка. Если ребенок один и он старше семи лет, то льгота на семью не распространяется. Почему? Или другой пример. Только недавно в регионах разрешили в ипотеку с пониженной ставкой покупать квартиры на вторичке. Да и то со множеством оговорок. Хотя жилье в новостройках дороже и существенно, а люди, воспитывающие детей, гораздо в большей степени ограничены в средствах, чем бездетные.
Думается, что и в столицах жилье покупается не какими-то богачами. Скорее всего, речь идет о малогабаритном жилье на окраинах. Понятно, это не лучшее приобретение для семьи. Но, возможно, люди рассматривают такие покупки для последующего переезда, чтобы найти работу лучше и потом заработать на более просторное жилье. Минфин, поддержавший инициативу Матвиенко, для таких приобретателей недвижимости готов сделать исключение, но с условием обязательной регистрации в купленном жилье в течение полугода со дня покупки. Снисходительно так. Но что, если людям недостаточно шести месяцев?
А если взять другие ситуации? Допустим, семья решила квартирный вопрос в своем регионе без льготных программ и даже переезжать никуда не хочет, но хочет купить студию в Москве для старшего ребенка, поступившего в столичный вуз. Или люди хотят купить более ликвидные метры в более развитом регионе и сдать их. Чиновники не хотят, чтобы семейную ипотеку использовали как инвестицию. Но речь ведь о семейной инвестиции. Люди решают остаться в родном городе, они мирятся с тем, что в нем меньше возможностей, но находят вот такой способ получения дополнительного дохода. Дохода, который может быть потрачен на образование тех же детей, например. Почему в этих случаях граждан надо как-то наказывать?
И есть ведь вот еще какой нюанс. Нынешняя льготная ипотека — она ведь и не то чтобы совсем льготная. По крайней мере, в сравнении с теми, которые брались, когда ключевая ставка была не 20%. Я вот, например, плачу за свою трехкомнатную квартиру чуть более 30 тысяч рублей в месяц, плачу по рыночной ставке 2021 года — 8%. И я очень сочувствую сегодняшним льготникам, которые платят по 70–100 тысяч по льготной шестипроцентной ставке за новостройку. Им выпало не лучшее время. Им приходится прилагать сверхусилия для решения в общем-то совсем не титанической задачи. Да эти люди — герои! Причем герои не только для своих близких, но и для государства. Да, конечно, они трудятся на пределе сил для себя, своих детей, но ведь и экономике профит. Конкретно строительная отрасль еще как-то держится благодаря таким вот семьям.
Все ведь всё понимают. Время сложное. Кризис. И люди, по сути, входят в положение. Принимают новую реальность как данность — не ропщут. Планируют будущее, пашут на это будущее точно проклятые. И что они получают в ответ? Странные инициативы чиновников еще как-нибудь осложнить им жизнь. Обесценивание их вклада и попытки навязать мысль, что это государство делает им огромное одолжение, одаривает их практически.
Но ипотека — это не дар. И любая ставка, в том числе льготная, предполагает огромную переплату. И как-то странно при этом требовать от людей покупать квартиры в кредит не там, где они хотят, а где барин велит. Паспорта бы еще при заключения кредитного договора отбирали до полного погашения долга. А что? Вдруг люди будут покупать студии на малой родине, сдавать их и уезжать за удачей в столицу? Тоже ведь мутная схема какая-то.
Нет, желание государства одной красивой комбинацией решить сразу кучу вопросов по-человечески очень понятно. Сохранить для людей возможность покупать жилье, повысить рождаемость, помочь при этом застройщикам, поддержать банки, спасти экономику регионов... Кто не мечтал о невозможном? Но одно дело — мечтать, и другое — с упорством сумасшедшего профессора пытаться воплотить странный эксперимент в жизнь, не считаясь с рисками разрушения всей системы.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

 Цивилизация
Цивилизация