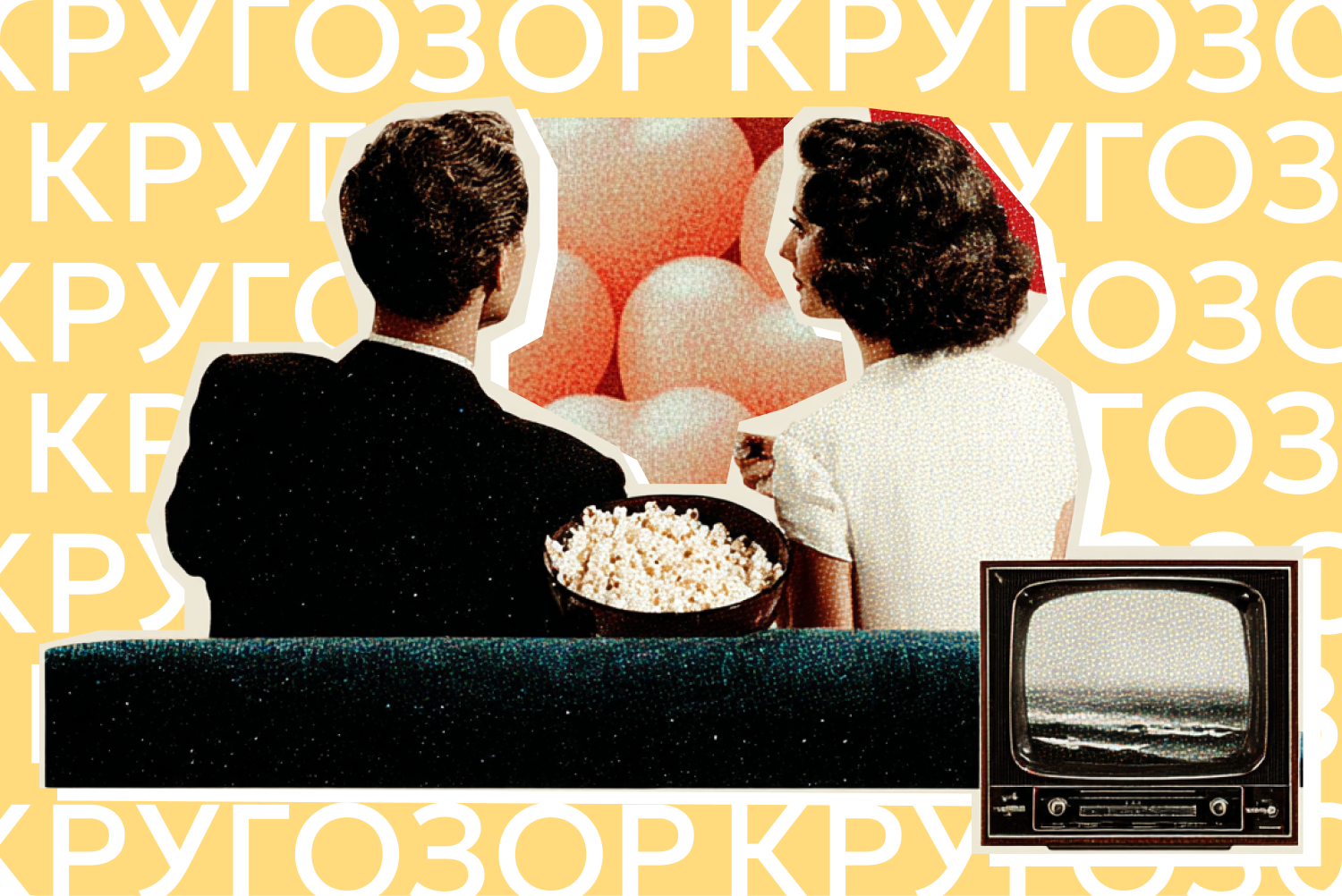Молодой человек с бородой и в рясе сидит на больших садовых качелях. Кто-то за кадром спрашивает: «Батюшка, а можно в храм приходить в шортах?» Батюшка поглаживает плюшевого тюленя, щурится на солнце и говорит: «Можно».
Молодой человек с золотыми кудрями и в рясе проходит мимо объектива камеры, потом останавливается, возвращается и смотрит на зрителя, говорит: «А кто это такой красивый у нас сегодня получит божье благословение?»
Молодой человек с лысиной, бородой и в рясе рассказывает о том, как важно изобразить жизнь Иисуса Христа в жанре японского комикса — манга.
Тысячи лайков, репостов и комментариев в духе — оказывается, есть нормальные священники!
Действительно, информационное поле последних лет постепенно насыщается служителями культа. В общем, ничего странного в этом нет, сама коммуникативная структура реальности предполагает, что и религиозная администрация пользуется смартфонами, а также имеет доступ к социальным сетям.
Благодаря ряду факторов, в числе которых антирелигиозная советская пропаганда, у части общества сложился вполне однозначный образ православного священника — это пожилой, не очень опрятный, толстый и бородатый человек. Как правило, довольно дремучий, потому что церковь, как принято считать, активно противостоит прогрессу. Да и вообще, церковь — «это место, куда ходят бабки». И ходят они туда специально, чтобы делать замечания всем остальным. Как бы ты ни встал в церкви, тебе обязательно скажут, что руки держишь не так, что смотришь не туда, что одежда не та, что перекрестился не вовремя. Поэтому молодежь в церковь ходить боится.
Насколько можно судить, новое поколение священников в социальных сетях, так называемые поп-попы, своей миссией, помимо духовного спасения, видят также развеивание некоторых стереотипов о церкви. И вот появляются они у нас в лентах и рассказывают о том, что главное — это любовь, а длинная юбка — второстепенный атрибут прихожанки.
Казалось бы, общение с народом — основная функция всякого жреца в обществе. Священник должен говорить. Но почему-то никто не знает, а что и кому говорили священники, скажем, 20 лет назад. Может быть, конечно, это мы не слушали, но вообще-то донесение слова Божьего до ушей алчущих и жаждущих правды — тоже функция говорящего.
Вот, скажем, был протоиерей Дмитрий Смирнов, его даже приглашали на телевидение. Замечательный проповедник, под его началом работало семь или восемь столичных храмов. Он был не поп-попом, а скорее, панк-попом, потому что, очевидно, с пренебрежением относился к ожиданиям паствы, не пытался выглядеть добреньким и привлекательным. Стандартный пример общения о. Дмитрия с паствой выглядел примерно так:
— Батюшка, здравствуйте.
— Здравствуйте.
— А вот у нас в районе построили новый храм, мы туда ходим.
— Хорошо.
— Но там на полу так выложили мозаику, что получается крест. И вроде как прихожане стоят ногами на кресте. Можно ли нам ходить в такой храм?
— А у вас есть квартира?
— Да. Двухкомнатная квартира в том же районе.
— Так вот, вам нужно продать эту квартиру, а вырученные деньги отнести в храм, чтобы там могли переделать пол. Это дорогое дело.
— Батюшка, а где же я буду жить?
— Это уже неважно.
И так он отвечал на любые вопросы. Важен был не ответ, а посыл: вы посмотрите на себя, не слишком ли вы тупы и нелюбопытны? Почему вы всегда задаете идиотские вопросы? Каков вопрос, таков и ответ.
Нынешняя коммуникация церкви и потенциальной паствы выглядит куда более политкорректно.
С одной стороны есть «злой полицейский», то есть, простите, строгий священник — например, отец Андрей Ткачев. Это он говорит о том, что все беды в России, включая регулярные налеты беспилотников на города, от разврата среди молодежи, это он считает, что плод внутри женщины ей не принадлежит, а потому аборты должны быть запрещены, это он называет мирные времена проклятьем. Он — воплощение пугающей косности, отталкивающего консерватизма, катастрофического регресса. Он говорит так, будто пытается отвратить от церкви тех, кто бы хотел к ней приблизиться. А может быть, фильтрует некрепкие умы? Может быть, он привлекает тех, кто готов продраться через сеть наносного пещерного мракобесия и прийти к церкви более зрелым, стойким, интеллектуально состоятельным? Может быть, но точно ответить на этот вопрос невозможно.
С другой стороны стоят вот эти самые поп-попы из социальных сетей — они делают короткие ролики о том, что менструация не может быть преградой на пути в церковь, что строгий пост придуман черным духовенством для монахов же, что игра на гитаре в дэт-метал-рок-группе вполне сочетаема с религиозностью, и так далее.
И странное дело, кажется, что именно эти новые поп-попы могут способствовать новому духовному наполнению церкви. Ведь церковь обществу не то чтобы необходима, но почему-то в каждом развитом обществе она есть. Потому что церковь объединяет людей. Сейчас на минуту забудем об истории религиозных войн и остановимся еще раз на тезисе — внутри общества церковь обладает свойством объединения людей. Если угодно, она может быть элементом нетворкинга. Если два человека ходят в церковь, им будет легче найти общий язык.
А если молодой священник умеет пользоваться социальными сетями, то ему, вероятно, будет проще найти общий язык с паствой, потому что паства — это просто люди, у каждого из которых есть смартфон.
Принимать образ поп-попа непросто. Но так непросто принимать и все новое. Представьте, до какой степени это непросто самой церкви.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.