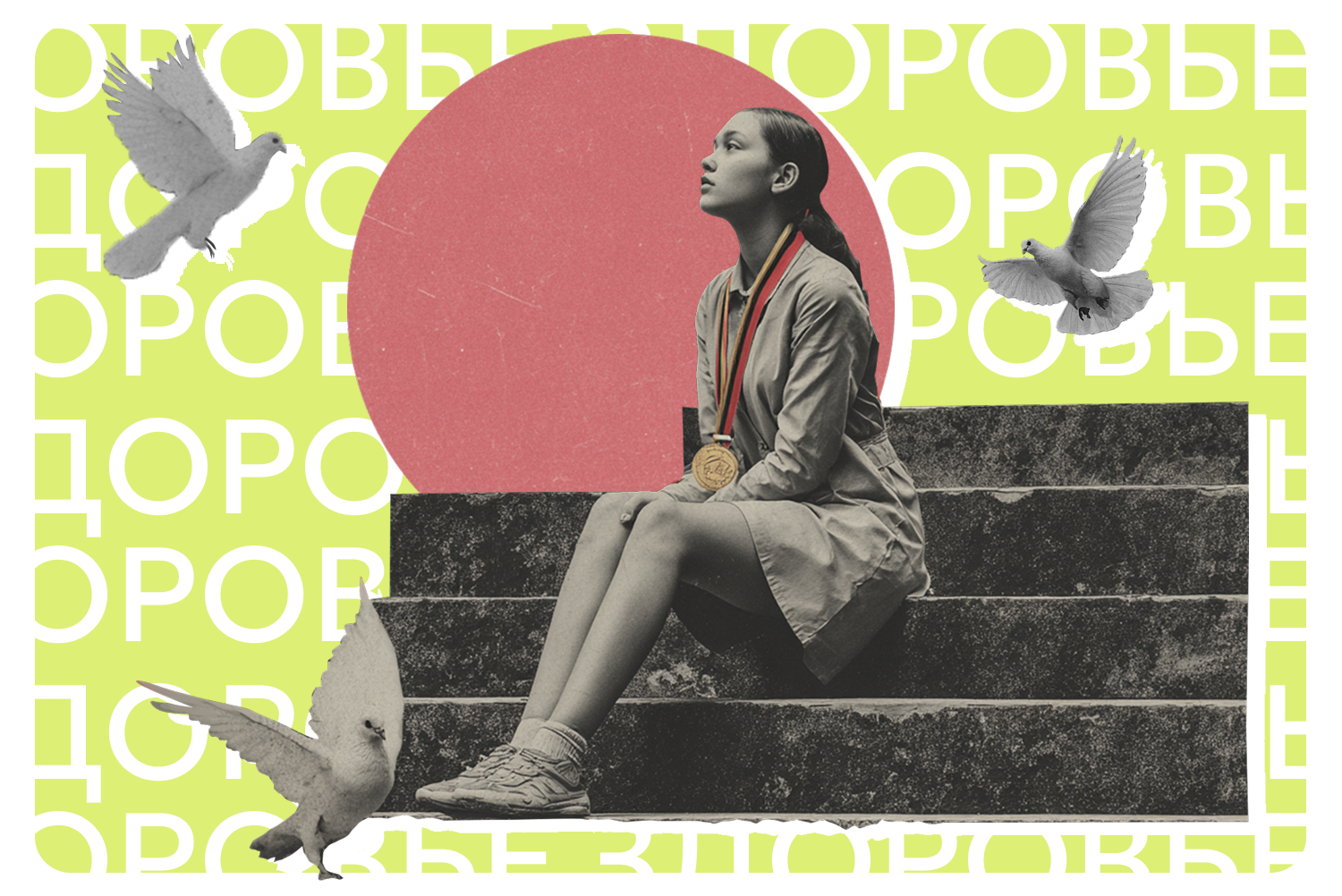Так случилось, что с интервалом в несколько дней совпали две круглые даты: десять лет октябрьским событиям в Москве и столько же самому популярному на сегодняшний момент органу — Центризбиркому. Противостояние ветвей власти в процессе выяснения, кто из них ветвистее, сопровождалось и погромами, и стрельбой. При этом обе стороны конфликта были вполне легитимно избраны, просто власти, как и пряников, всегда не хватает для всех, и кому-то показалось, что будет правильным занять не тот пост, на который его направляли избиратели, а тот, который хочется, поскольку он более престижен. А кому организовать недовольных и устроить малые и большие погромы — всегда найдется. В отсутствие старого института казаков (это не те, которые в неизвестно кем присвоенных погонах и медалях кричат «любо» на телекамеры, а специализированные части из независимых землевладельцев), обученных работать с агрессивной толпой, пришлось прибегать к помощи армии. Никому все это радости не принесло, но во всяком случае, как бы ни оценивались эти события, развитие демократических институтов в России было продолжено. В том числе и независимость СМИ, и свободное волеизъявление избирателей, и столь же свободная агитация, и сравнительно равные возможности у кандидатов на выборные должности в законодательную и исполнительную власть. Например, не было списка, кому из региональных руководителей два срока много, а кому и три мало.
В результате, как становится понятно, выигрыш одной из сторон носил временный характер, зато удалось выработать технологии властного устройства, которые с тех пор существенно изменились и дают тот несомненный результат, что сегодня представить ситуацию октября-93 просто невозможно. Вертикаль власти построена, порядок — в смысле незахвата парламентских помещений по какому бы то ни было поводу — наведен. Конечно, это, безо всякого, хорошо.
При этом даже какая-никакая политическая система построена. Что-то вроде полупросвещенной бюрократической монархии.
В результате через десять лет после событий при всех видимых проявлениях политического кризиса никому и в голову не придет, что это может привести к каким -то гражданским волнениям.
Для достижения столь приятных результатов пришлось, правда, скорректировать и ряд демократических институтов. И выстроить за несколько последних лет с благословения администрации (это такой невыборный, но реально руководящий орган) эффективную выборную систему, которую можно по аналогии с властной назвать выборной вертикалью. Речь здесь не о ком-то персонально, поскольку дело не в фамилиях, а именно в построенной системе. Конечно, не совсем здорово, что этот почтенный орган добивается через законодателей (комментировать которых здесь не место) некоторого ограничения политических свобод, в частности, свободы СМИ. А так оно обстоит, если оставить в покое все камлании, широкие дискуссии и разъяснения ЦИКа по этому вопросу.
Малоубедительны и разъяснения его руководства по поводу того, что является нарушением закона о выборах в части использования административного ресурса, а что — просто выдающимся новаторством. Но зато есть главное — есть результат. И есть возможность его планировать.
Что же касается реакции избирателя, все больше собирающегося заняться вместо голосования какими-то более полезными делами, то порог голосования, как известно, устанавливается законом не навечно и подлежит необходимой корректировке.
~На сей счет, правда, существуют разные мнения. Кто-то голосует против всех в бюллетене, кто-то ни за кого — не приходя на участок. Некоторые эксперты считают, что это неправильно и приходить голосовать необходимо — именно для того, чтобы добиться возможности осуществления своего реального волеизъявления. Хотя мало для кого секрет, что власть законодательная и власть реальная — сегодня в России отнюдь не синонимы. Но тем не менее каждый волен выбирать для себя. Потому что кому-то интересен результат, а кому-то процесс. Процесс организуют пиарологи, политологи, политтехнологи, телеанализаторы, группы поддержки кандидатов и избирательные комиссии. Весь вопрос в том, кто в итоге определяет результат.