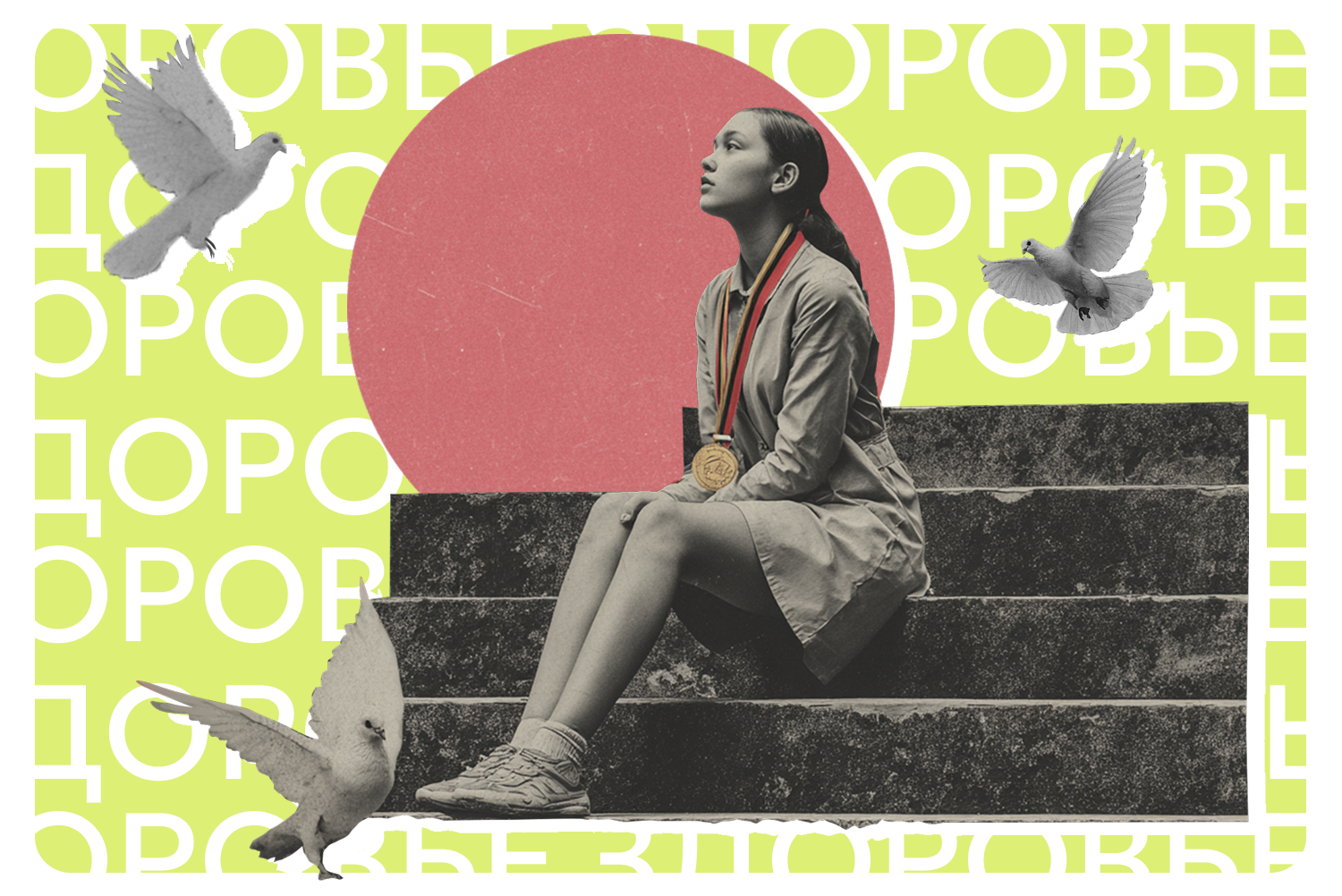Слушания в Конституционном суде по поводу того, что в деятельности российских СМИ является информированием, а что — агитацией, проходят на фоне внятного сигнала по проблеме, высказанной В. В. Путиным во время визита в США. В том смысле, что свободы слова в России никогда и не было, так что и сожалений о ее утрате быть не должно — в связи с отсутствием объекта скорби. Тем не менее рассматриваемый случай подтверждает сложившуюся тенденцию, когда ведомственные законы оказываются сильнее законов базисных. За последнее время значительное число законодательных инициатив, успешно протаскиваемых лоббистами ведомств через Думу, так или иначе создают противоречие с базовыми гарантиями прав и свобод граждан (из последних — возвращение обязательного курса НВП в школе). Курочка, известно, по зернышку клюет, а уж если у курочки не рот, а пасть, только с клювом, можно целыми снопами обмолачивать. Получается странный взгляд на население, которое может интересовать власть только как налогоплательщики или избиратели, но совсем мало — как граждане.
В нашем случае ведомство с правом законодательной инициативы оказывается в состоянии легко скорректировать конституционные нормы, гарантирующие право граждан на информацию. Этой проблемой, напомним, Конституционный суд сейчас не занимается, поскольку вопрос, вынесенный на обсуждение, касается больше редакционных задач по уточнению формулировок и определений предмета, именуемого агитацией. Но можно с достаточной степенью достоверности предположить, что, к какому бы решению ни пришел в результате Конституционный суд, положение СМИ и возможность граждан на получение полной и достоверной информации в процессе предвыборной кампании вряд ли изменятся к лучшему.
Потому что право трактовать ситуацию на местах все равно останется за местными же избиркомами, а говоря проще — за властями соответствующего уровня.
Поскольку ведомство всегда создает правила, удобные для себя и своих структур, — это правило объективное, а потому всегда неизбежное. Даже если решение суда изменит или несколько ужесточит определения информации и агитации, власть любого уровня через свои избирательные комиссии сможет решить семантические задачи в необходимой диалектической плоскости.
Все, что представители СМИ знают и могут сообщить о партиях и кандидатах, они смогут сообщить уже после голосования, а также продолжить это делать в период между выборами. Настроение это несколько поднимет, но все равно получается уже другая история, поскольку очередные плеяды объективно неведомых избирателю народных избранников уже займут свои желанные места.
Интересно, что изобретенный ЦИКом закон как-то незаметно выводит из обихода еще одно серьезное достижение последних лет, когда правоту сторон определяет суд. Достаточно информацию, которую СМИ в силу своего профессионального долга доводит до общественности, объявить агитацией — и все, ведомственная структура сама выносит решение (предупреждение, штрафы, лишение возможности продолжать деятельность и т. д.), прекрасно избавляясь от необходимости доказывать свою правоту в суде.
Любое ведомство мечтает о таком полезном положении дел, особенно те, которые не имеют устойчивых связей в определенных судах.
~После всего этого журналистам можно порекомендовать прибегнуть к классическому способу вывода руководство на диалог: строгому и буквальному соблюдению всех правил и инструкций — это в любой деятельности приводит к параличу. В нашем случае можно во время выборной кампании показывать и печатать только оплаченные из избирательных фондов материалы, разумеется, предупредив об этом зрителей и читателей. И больше — ни слова, ни сюжета. Результат может оказаться любопытным. Сложность здесь состоит в серьезных выборных бюджетах, которые легальными избирательными фондами вряд ли ограничиваются.
Во всяком случае последние события говорят о том, что пора восстанавливать практику употребления эзопова языка с закладкой в карман соответствующей фигуры. Это ответ привычный, хотя возврат к нему радует мало.