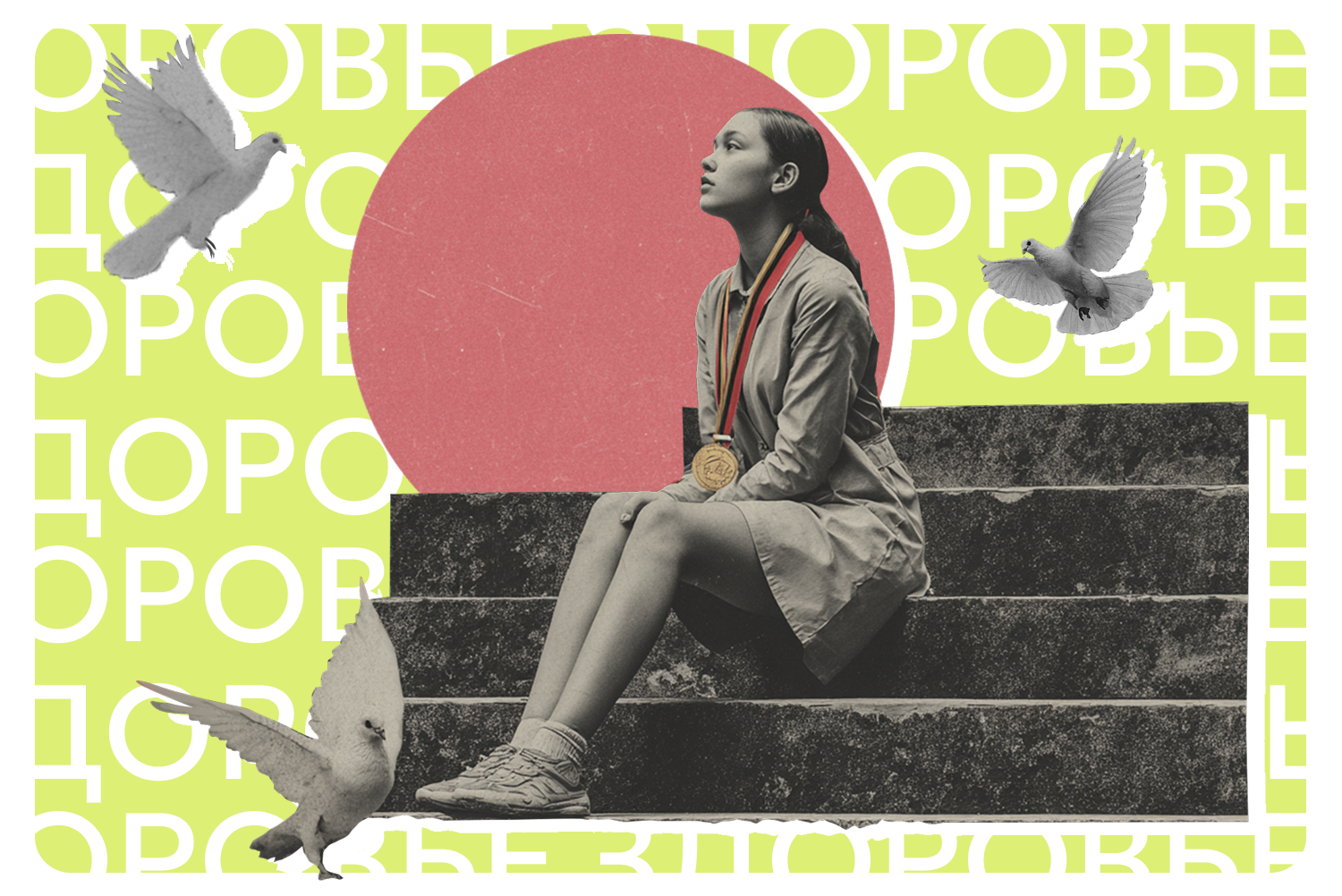Если исходить из старого, но верного тезиса о том, что знание множит скорбь, следует признать, что в последнее время делается все для поддержания в обществе приятного и даже радостного состояния счастливого неведения. Суд присяжных признал ученого Сутягина виновным в шпионаже. Но, поскольку процесс был закрытым, единственная более или менее доступная информация исходила со стороны защиты и заключалась в том, что все, чем оперировал обвиняемый, было опубликовано в открытой печати. Так это или нет, точно неизвестно. Зато про претензии обвиняющей стороны не известно ничего, кроме исторически присущего как самодостаточное явление слова «шпионаж».
Не ставя под сомнение право присяжных выносить тот вердикт, который они считают правильным, опять же нельзя не заметить, что про их состав, если не поименный, то хотя бы профессиональный, социальный и возрастной, а также про принцип отбора также не известно ничего.
::: Равно неизвестно, как в конце концов были сформулированы вопросы к присяжным, на основании которых они вынесли свой вердикт, хотя именно от того, как сформулированы вопросы, во многом зависит и ответ — это знает любой психолог и социолог. Хотя такого рода информация вряд ли может представлять собой государственную тайну. В результате общество, поскольку процесс стал предметом общественного интереса, в силу полной закрытости процесса должно принять на веру позицию прокуратуры и поддержавших эту позицию присяжных.
В силу сложившейся в наше время реальности для полного и заочного доверия прокуратуре требуется совсем уж труднодостижимый запас радостного состояния (скорбь, как мы помним, происходит только от знания), а не зная ничего про состав и принцип подбора присяжных, вынесенное ими решение также сложно принять, как раньше писали, с удовлетворением или, наоборот, с разочарованием. Потому что нет никакой возможности составить хотя бы примерное собственное представление о том, полностью ли присяжные представляют независимую гражданскую аудиторию и в целом виновен ли обвиняемый и в какой степени виновен. В результате остается только гадать, действительно ли спецслужбы пресекли передачу секретных данных третьей стороне, вернее, не пресекли, а обнаружили после события, что, конечно же, не дает возможности оценить их деятельность на пятерку. Или здесь скорее операция по разъяснению гражданам, зачем им иметь и оплачивать из своего кармана такую немалочисленную и вполне себе обеспеченную структуру. Стоит вспомнить, что за последние годы было возбуждено несколько аналогичных уголовных дел против ученых, и все они с точки зрения открытых доказательств были, скажем так, не совсем убедительны. Речь не о том, что в описываемом случае виновным признан невиновный — может быть, это и не так. Просто институт правосудия, как известно, предусматривает открытую состязательность сторон. Понятно при этом, что какая-то часть информации, показаний и т. п. может по соображениям государственной безопасности быть закрыта, но только эта, как уже сказано, необходимая часть.
Иначе общество получает не подтверждение важного принципа неотвратимости наказания за преступление, а предложение заменить знание верой. Но пока все же рано относить правоохранительную и судебную систему к сфере духовного, где подобная замена была бы вполне уместна.
~ Примерно то же относится и к ситуации, никак с государственной тайной не связанной, но столь же таинственной. После трагедии в аквапарке было заявлено, что сначала закончит свою работу специальная комиссия, а потом общество узнает, кто виноват. Комиссия свою работу вроде закончила, вроде мог быть взрыв, потом вроде не могло быть взрыва, а, наоборот, были проблемы с проектированием крыши. Хотя, по самым последним данным, могло быть и что-то другое, что, возможно, выяснят военные специалисты. Как в старинном стихотворении Апухтина: «И даже, кажется, навряд была и тетка Воронцова,/ но был, действительно, отряд, но только вовсе не Слепцова,/ потом пронесся слух таков, что вовсе не было отряда,/ а был поручик Пирогов. Да был ли — справиться бы надо». Надо на чем-то остановиться: либо до полного вынесения решения не делать никаких заявлений и разъяснений, был взрыв или не был, крыша, или колонны, или еще что-то, либо информировать общество о том, исходя из каких доказательств и материалов делаются, а главное, оглашаются те или иные выводы. В результате опять же уверенность есть только в том, что полной и реальной картины происшедшего и того, кто и в чем виноват, узнать уже не получится. Можно будет только верить или не верить той окончательной редакции версии произошедшего, которая будет предложена для ознакомления обществу. Возможность получить представление о реальном положении здесь так же минимальна, как и в вышеупомянутом закрытом процессе. Что достаточно печально, поскольку информационное пространство, создаваемое методом гадания и полного доверия к его результатам, может далеко продвинуть Россию в области создания гражданского общества. Зато удвоение ВВП может быть достигнуто досрочно — путем простого официального объявления о том, что оно состоялось.